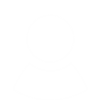В конце августа Татарстан отметил 35-летие со дня принятия Декларации о государственном суверенитете. О том, какой политический путь прошла республика от бывшей советской автономии до вновь лояльного Москве региона, "Idel.Реалии" поговорили с научным сотрудником Центра восточноевропейских и международных исследований (Берлин, Германия) и Центра российских и евразийских исследований Дэвиса при Гарвардском университете (США), профессором Ириной Бусыгиной.
Ирина Бусыгина
Родилась 29 марта 1964 года в Москве. В 1988 году окончила географический факультет МГУ, в 1992-м защитила кандидатскую диссертацию в Институте Европы РАН. В 1992-1999 годах работала в Институте Европы РАН старшим научным сотрудником, заведующей сектором региональных и социальных проблем. В 1999-2016 годах работала профессором на кафедре сравнительной политологии факультета политологии МГИМО. В 1997 году стала лауреатом Государственной премии Российской Федерации для молодых учёных в области науки и техники.
В 2002-м защитила докторскую диссертацию в МГИМО и получила степень доктора политических наук. В 2001-2006 годах была экспертом общественной организации "Открытая Россия". В 2010-2012 годах — профессор кафедры сравнительной политологии факультета прикладной политологии Высшей школы экономики (ВШЭ).
С 2017 по 2022 год была профессором ВШЭ в Санкт-Петербурге. Является научным сотрудником Центра восточноевропейских и международных исследований (Берлин, Германия) и Центра российских и евразийских исследований Дэвиса при Гарвардском университете (США).
В 2022 году в знак протеста против начала войны против Украины уволилась из ВШЭ и уехала в США. В феврале 2025 года Министерство юстиции России признало ее "иностранным агентом".
Бусыгина опубликовала более десяти книг по теме федерализма и регионализма в России и Европе, в том числе "Федерализм и этническое разнообразие в России" (под ред. И. Бусыгиной и А. Хайнеманна-Грюдера), "Политическая модернизация государства в России: Необходимость, направления, издержки, риски" (Ирина Бусыгина, Михаил Филиппов), Policy paper (программный документ) "Как реформировать российский федерализм: условия, издержки и риски" на сайте проекта "Рефорум", "Как география и институты определили развитие наций". (London: Routledge, 2024), "Недемократический федерализм и децентрализация в постсоветских странах". (UK: Routledge, 2024, co-author Mikhail Filippov).
"Российский федерализм 1990-х годов — это череда вынужденных решений"
— В 1990 году вслед за "парадом суверенитетов" (как тогда называли этот процесс политологи) союзных республик последовал такой же "парад" автономий в составе РСФСР (как и в составе многих других союзных республик). Как вы думаете, почему эти процессы пошли с такой скоростью?
— Если коротко, то в 1990 году в стране, я имею в виду СССР, произошло резкое изменение ситуации. Система начала распадаться. Свои суверенитеты провозгласили союзные республики и прежде всего РСФСР.
То есть появляется новая Россия, внутри которой ещё не выстроены новые правила игры. Между РСФСР и союзным центром начинается "война законов" — прежде всего из-за собственности и полномочий. И при этом довольно быстро становится понятно, что в самой России, внутри её новых центров власти тоже начинается политическое противостояние. Один кризис прибавляется к другому — и всё это создает и для руководства автономий, и для населения атмосферу густой, сплошной неопределенности.
И на фоне резкого ослабления Москвы как центра власти у региональных властей автономий возникают новые возможности. Поэтому появление у них деклараций о суверенитете — это абсолютно рациональное поведение.
Татарстан, Башкортостан и многие другие автономии ещё до 1990 года требовали предоставить им статус союзных республик, то есть существенно расширить их полномочия — прежде всего во владении собственностью. Декларации о суверенитете, которые принимали российские автономии в конце лета-начале осени 1990 года, во многом схожи. Главной их особенностью было то, что эти документы провозглашали исключительной собственностью республик землю, недра, воды, природные богатства, средства производства, а также провозглашали верховенство своих законов над законами РСФСР и СССР.
— Татарстан буквально сразу выбился в лидеры среди субъектов, борющихся за расширение полномочий. Как вы это объясняете?
— Если иметь в виду общую картину, то в изменившихся политических условиях, демократизации у региональных элит появилась возможность мобилизовать население в поддержку своих требований. И тема о ресурсах, естественно, стала ключевой. Ресурсы теперь будут не московскими, а нашими — это звучит очень привлекательно для населения, для электората. И популярность, легитимность местных властей резко повышается.
А дальше в этом процессе начинается уже разделение между регионами, поскольку они очень разнообразны. И вот здесь мы переходим к истории с Татарстаном.
В национальных автономиях в России, как и в союзных республиках, этническая мобилизация еще в конце 1980-х стала главным фактором политической мобилизации. В Татарстане к этому прибавились экономические и социально-культурные факторы. Это мощная республика: нефть, газ, машиностроительная, обрабатывающая промышленность. Это большой по численности населения регион, а его столица Казань — один из городов-миллионников СССР, с большим научным, образовательным, производственным, культурным потенциалом.
Этот людской потенциал во время перестройки практически сразу оказался вовлечен в политические и общественные процессы. И вот эта комбинация предпосылок вкупе с хорошим географическим расположением республики, её связями с соседними регионами сыграла свою роль в Татарстане. Я вообще считаю, что история Татарстана в российском федерализме, наверное, самая интересная, пусть и не оптимистическая.
— Следует ли добавить к этим предпосылкам и историческую память у татар о существовании собственной государственности?
— Конечно, историческая память играет большую роль для политического оживления народа, для его мобилизации. И в Татарстане эта память, безусловно, была. А в других регионах, республиках в том числе, её либо не было, либо было значительно в меньшей степени, чем в Татарстане.
30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской АССР большинством голосов принимает Декларацию о государственном суверенитете. Татарская АССР переименовывается в Татарскую ССР. Исключительной собственностью народа Татарстана объявляются "земля, её недра, природные богатства и другие ресурсы", находящиеся на территории республики.
Также заявляется, что "Конституция и законы Татарской ССР обладают верховенством на всей территории Татарской ССР", а законы РСФСР и СССР действуют в части, не противоречащей Декларации о государственном суверенитете республики.
— Декларация о суверенитете стала только началом — в 1991 году Татарстан изъявил желание самостоятельно подписать Союзный договор, который разрабатывал Михаил Горбачев, а после краха августовского путча заявил о своем праве войти в СНГ на правах учредителя…
— Да, региональные, республиканские элиты видели, что в Москве власть отнюдь не консолидируется, а наоборот — в ней продолжается противостояние, уже Ельцина с Верховным Советом России. Политическая история развивалась очень быстро, и региональным элитам нужно было как-то на это реагировать. Поэтому в 1992 году Татарстан усиливает свой суверенитет тем, что проводит референдум — фактически о независимости — и в том же году закрепляет результаты этого референдума принятием новой республиканской Конституции.
21 марта 1992 года в Татарстане провели референдум о суверенитете республики. На вопрос "Согласны ли вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?" положительно ответили 61,4 % проголосовавших.
К 1994 году становится ясно, что в условиях продолжающейся слабости Москвы Татарстан отыграл уже очень много. И накопившиеся противоречия можно было разрешить. Если разрешать их мирным путем, а не военным, как в Чечне — то только подписанием двустороннего договора, Справка:
15 февраля 1994 года президент России Борис Ельцин, председатель правительства РФ Виктор Черномырдин с одной стороны и президент Татарстана Минтимер Шаймиев и премьер-министр РТ Мухаммат Сабиров подписали договор "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий". Документ дал республике исключительное право распоряжаться землей и ресурсами, создать систему госорганов, формировать бюджет, иметь свое гражданство и участвовать в международных отношениях. Срок действия договора не ограничивался. между Москвой и Казанью в феврале 1994 года.
— Вслед за этим подобные договоры стали заключать с Москвой и другие республики — например, Башкортостан в августе того же 1994 года, а затем и некоторые области и края…
— Да, и всё это сделало федеративное устройство в России уже крайне ассиметричным. Это создало ещё и напряжение между теми регионами, которые выторговали себе большие преференции, и теми, которые таких преимуществ не получили. Российский федерализм 1990-х годов — это череда вынужденных решений.
"Федерализм оказался одной из жертв путинской политики. Причем, что обидно, одной из легких жертв"
— В 2000-е годы Москва начала наступление на республиканские суверенитеты. Почему оно оказалось столь успешным, на ваш взгляд?
— Ключевым фактором во всем происходившем была, как я уже говорила, дееспособность Москвы. Её не было в 1990-е годы. Она была — увы, отнюдь не демократически, но тем не менее — восстановлена постепенно с приходом к власти Путина. В течение его первого президентского срока была проведена реформа Совета Федерации, успешно оспорены в судах ключевые моменты республиканских конституций, упразднена выборность губернаторов и так далее.
И никто, в том числе и Татарстан, против этого не возразил, хотя все видели, что политическая самостоятельность регионов, а вслед за ней и их экономическая самостоятельность резко сокращается.
— Помнится, многие такие инициативы Путина были встречены одобрительно в республиках — например, частью их русскоязычного населения, политиками, которые ориентировались на общероссийские как демократические, так и недемократические движения. Так, в самой Москве демократы, которые тогда ещё были представлены в Госдуме, голосовали за новую редакцию федерального закона о политических партиях, которая упраздняла региональные партии в регионах и разрешала создавать только федеральные.
— Да, демократические завоевания 1990-х годов, в том числе федерализм, были сданы без звука. И это, я считаю, коллективная ответственность нас всех — политиков, гражданского общества, губернаторов, региональных парламентов, Совета Федерации, Конституционного суда РФ. И федерализм оказался одной из жертв путинской политики. Причем, что обидно, одной из легких жертв. Не было никакой борьбы.
— Чем это можно, по-вашему, объяснить?
— Я не могу объяснить это ничем, кроме как банальным оппортунизмом региональных, республиканских элит. Они увидели, что сопротивлением выиграть ничего невозможно. Им не удалось создать широкую коалицию регионов, которая бы решительно выступила против сокращения их суверенитета. И они избрали такую стратегию — оппортунистическую и в то же время рациональную, с их точки зрения. Выступать прямо против Путина они посчитали рискованным.
— И это было время, когда прямо у них на глазах происходил разгром Чечни.
— Конечно. Им показали, что может быть и с ними, и с их регионами. Ну, а на втором сроке Путина как-то сопротивляться было вообще бесполезно. Поэтому нельзя сказать, что Татарстан упустил в те годы свой шанс сохранить суверенитет. К сожалению, даже этого мы сказать не можем. Мы должны признать, что никакого шанса не было.
— Ещё одним следствием всех этих процессов стал "добровольный" отказ практически всех регионов от заключенных в 1990-е годы двусторонних договоров с федеральным центром. Но с Татарстаном такой договор был всё же перезаключен в 2007 году.
26 июня 2007 года президент России Владимир Путин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписали договор "О разграничении предметов ведения и полномочий". Согласно документу, Татарстан имел право на совместное с федеральным центром решение вопросов, связанных с экономическими, экологическими, культурными и иными особенностями республики.
— Если говорить в целом, то, по сути, эти договоры даже и отменять не надо было. Они не были ратифицированы Госдумой и региональными парламентами; подписывались только высшими представителями исполнительной власти России и регионов.
А если посмотреть на перезаключенный договор с Татарстаном 2007 года, то мы видим, что это совершенно пустой документ. И совершенно очевидно, что его цель заключалась не в том, чтобы как-то развить суверенитет республики, а в том, чтобы удалить из договорных отношений всю ту "сепаратистскую скверну", которая была в договоре 1994 года.
И с этого момента происходит удивительное превращение Татарстана из "головной боли" для Москвы в очень лояльный регион. За "Единую Россию", за Путина там демонстрируются результаты голосования много выше среднего по стране.
В июле 2017 года стало известно, что Москва не намерена продлевать договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, равно как и заключать новый.
"Республика может опять стать лидером среди других регионов, восстанавливающих суверенитет"
— Как, по вашей оценке, нынешняя война с Украиной повлияла на федерализм в России в целом и на Татарстан в частности?
— Война показала, что модель российского "авторитарного федерализма" вполне устойчива. После начала [полномасштабной] войны по всей огромной территории России не было зафиксировано ни одного случая проявления нелояльности Путину со стороны региональных властей. Наоборот — регионы с энтузиазмом "подставили плечо" Путину, приняв на себя новые зоны ответственности.
То же можно сказать и о Татарстане. В декабре 2022 года, уже в ходе войны, в Татарстане было принято решение отказаться по настоянию Москвы от названия высшего должностного лица как "президента" и перейти к названию "глава республики — раис". В парламенте республики критиковали это решение, однако его продавили, аргументируя в том числе тем, что в период "СВО", когда вся страна должна быть консолидирована, трения с Москвой неуместны.
23 декабря 2022 года депутаты Госсовета Татарстана приняли закон о поправках в Конституцию РТ, который до этого с общественностью даже не обсуждался.
В частности, было принято решение переименовать должность президента республики. Новое название: "Глава — Раис Республики Татарстан". В то же время были предусмотрены переходные положения, согласно которым Рустам Минниханов по-прежнему будет называться президентом Татарстана до окончания своего срока в 2025 году. На том, чтобы выполнить требование Москвы, настоял и Минниханов, и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. "Люди будут воспринимать: вот Татарстан восстал, у Путина не все нормально, Россия на кусочки разобьётся", — убеждал Минниханов депутатов, которые не хотели идти на "компромисс".
Спикер парламента РТ Фарид Мухаметшин также заявил, что "противостоять федеральному центру в условиях СВО мы себе позволить не можем". В итоге за изменение Конституции голосовали 79 депутатов и только двое — против.
Однако в конце января 2023 года глава комитета Госсовета РТ по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин сообщил, что новое наименование — глава (раис) — будет применяться сразу после вступления в силу поправок. По его словам, решение было принято "после дополнительных консультаций", по всей видимости, с федеральным центром. 23 января Рустам Минниханов встречался с президентом России Владимиром Путиным.
26 января 2023 года на заседании Госсовета Татарстана были окончательно приняты поправки в Конституцию РТ, которые лишили республику последних атрибутов самостоятельности. Татарстан, согласно новой редакции Основного закона, больше не имеет ни должности президента, ни суверенитета, носителем которого являлся многонациональный народ. Также отменены статьи о гражданстве Татарстана, о том, что республика "отвергает насилие и войну", нет больше требования, чтобы кандидат в руководители Татарстана обязательно знал татарский язык.
— Однако складывается впечатление, что Татарстану до сих пор позволено чуть больше, чем остальным. В частности, с точки зрения международного сотрудничества республики с другими странами. Почему, на ваш взгляд?
— Я вижу два практических объяснения этому.
Во-первых, Москва не заинтересована в том, чтобы "цеплять" Татарстан по мелочам, поскольку это экономически мощный регион, где много избирателей. Во-вторых, Татарстан играет довольно важную роль во взаимодействии России со странами исламского мира, а эти страны в условиях противостояния с Западом для России принципиально важны.
Рустам Минниханов возглавляет "Группу стратегического видения "Россия — Исламский мир". Кроме того, Казань — это прекрасное место для проведения разного рода саммитов и других парадных мероприятий. Именно там, например, в октябре 2024 года проходил саммит БРИКС.
Такое "чуть больше" для Татарстана показывает, что Кремль вполне готов на некоторую гибкость в отношении отдельных — правда, очень немногих — регионов, если она мотивирована соображениями практического характера и не затрагивает политической лояльности регионов Москве, которая должна быть безусловна.
— Каким вы видите будущее Татарстана? Насколько оно, по вашему мнению, может быть связано или не связано с Россией?
— Чтобы ответить на такой вопрос, его нужно поставить следующим образом: сохранится ли территориальная целостность Российской Федерации? Но ответ на этот вопрос будет зависеть от того, что будет происходить в Москве. Если вновь, как в 1990-х годах, наступит период устойчивого, долговременного ослабления Москвы, то события тех лет могут повториться.
— Какие события могут привести к такому ослаблению Москвы?
— Это может быть только одно событие — уход Путина, вслед за которым пойдет затяжная битва за передел власти. И тогда может быть использован опыт начала 1990-х годов, в том числе огромный опыт Татарстана. Та мобилизация населения, о которой мы говорили выше, может очень быстро вернуться. И республика может опять стать лидером среди других регионов, восстанавливающих свой суверенитет, её пример вновь мобилизует другие регионы. Я уверена, что Татарстан займет такую лидирующую роль.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.